-
![[image]](https://www.balancer.ru/cache/sites/com/be/bezbumlit/uploads/posts/2013-03/128x128-crop/1364654529_429febc73f46a1b7fb6cc60d99a3d0c9.jpeg)
Альтернативка как выразитель национальных настроений, коллективного бессознательного и прочих комплексов - для начала на примере Польши
Теги:
Внимание!
Совершенно нетрадиционная альтернативка детектед!
Никаких 1917-х! Никаких 1941-х! Времена Петра Первого.
И много-много межнациональных настроений.
Не то чтоб занудно, но не боевик.
Впрочем, мне нравится

Совершенно нетрадиционная альтернативка детектед!
Никаких 1917-х! Никаких 1941-х! Времена Петра Первого.
И много-много межнациональных настроений.
Не то чтоб занудно, но не боевик.
Впрочем, мне нравится


Журнал "Самиздат".Радов Константин М.. Альтисторические мемуары
СМ. ТАКЖЕ:Заграница.lib.ru | Интервью СИМузыка.lib.ru | Туризм.lib.ru"Художники" | Звезды СамиздатаArtOfWar | Okopka.ru Фильм про "Самиздат"НАШИ КОНКУРСЫ:"Современный детектив-13" Пустые_части Глава: Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати: Ю.Иванович "Десятый принц" П.Комарницкий "Последний корабль в Бессмертные Земли" С.Кусков "Игрушки для императоров:Иллюзия выбора" М.Князев "Полный набор.Возвращение домой" А.Сапаров "Назад в юность" Н.Лебедева "Театр Черепаховой кошки" В.Коротин "Попаданец со шпагой" Е.Шепельский "Эльфы,топор и все остальное" А.Левковская "Поймать Судьбу за хвост" Е.Щепетнов "Монах.Боль победы" Н.Жильцова, С.Ушкова "Две короны" А.Алексина "Игра со Зверем.Шах королю" А.Уралов, С.Рыжкова "Найти и вспомнить" В.Корн "Путь на Багряный остров" К.Полянская "Попробуй меня уберечь!" М.Николаева "Хаос дорог" В.Снежкин "Князь Палаэль.Испытания для мага" М.Завойчинская "Дом на перекрестке.Под небом четырех миров" А.Джейн "Музыкальный приворот" К.Коути, К.Гринберг "Длинная… // Дальше — samlib.ru

Anika> Никаких 1917-х! Никаких 1941-х! Времена Петра Первого.
Кинем полено в тот же костер = )
Алекс Кун,"Броненосцы Петра Великого"
Попаданец-яхтсмен + Петр І = неплохая альтернатива с четырьмя продолжениями. Последнее недописано до конца.
Кинем полено в тот же костер = )
Алекс Кун,"Броненосцы Петра Великого"
Попаданец-яхтсмен + Петр І = неплохая альтернатива с четырьмя продолжениями. Последнее недописано до конца.


Очередная история об ещё одном попаданце. На этот раз попали не в 1941 год и даже не в конец XVII века, а чуть позже.
...
Ахтунг! Оголтелая пропаганда СССР. Тем, кто считает Солженицына не преступником, а писателем, данную книгу читать категорически противопоказано.
...
Автор выражает благодарность своему любимому писателю Полу Андерсону. Его рассказ “Delenda est” из цикла “Патруль времени” дал толчок к написанию этой книги...

Читать "Студентка, комсомолка, спортсменка" - Арсеньев Сергей Владимирович - Страница 1 - ЛитМир.net
Читать книгу онлайн "Студентка, комсомолка, спортсменка" - Арсеньев Сергей Владимирович - бесплатно, без регистрации. // www.litmir.netБукафф многовато. Но - очень конкретный "выразитель национальных настроений, коллективного бессознательного и прочих комплексов"




Убить гадину в зародыше: новинки литературы
АЛЕКСАНДР БОЛЬНЫХ: «Штык-молодец. Суворов против Вашингтона» Новый военно-фантастический боевик от автора бестселлера «Пуля-дура»! Альтернативная история… // potsreotizm.livejournal.comНовый военно-фантастический боевик от автора бестселлера «Пуля-дура»! Альтернативная история «золотого века Екатерины». «Подняв на штыки» Фридриха Великого и «взяв на шпагу» Берлин, Российская империя становится Сверхдержавой и волей-неволей втягивается в войну за «передел мира». В 1776 году русский экспедиционный корпус под командованием генерал-поручика Суворова отправляется в Америку подавлять мятеж «либералов и вольтерьянцев».
Суворовские «чудо-богатыри» против армии Вашингтона! Русский штыковой бой против американских «зверобоев» с их «соколиным глазом»! «Пуля – дура, штык – молодец!» Наша пехота штурмует Конгресс, казаки доказывают, что могут воевать в здешних лесах не хуже индейцев, Александр Васильевич Суворов становится графом Йорктаунским, а Екатерина Великая получает обновленный царский титул: Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий князь Финляндский и Американский и прочая, и прочая, и прочая…
Название: Штык-молодец. Суворов против Вашингтона
Автор: Александр Больных
Издательство: Яуза, Эксмо
Жанр: Историческая фантастика, Боевая фантастика
Год: 2013
Страниц: 240
Язык: Русский
Радуют комментарии:
Anonymous
November 23 2013, 23:01:25 Loca
Когда-то Пол Андерсон написал роман про то, как крестоносцы захватили космический корабль инопланетян и полетели нести свет католицизма, так сказать, инопланетным темным массам и материям. Надо дать прямой твердый ответ пиндосским басурманам: Суворов захватил инопланетную эскадру и полетел насаждать галактические самодержавие, православие и народность всей этой языческой разумной плесени. И великая Екатерина прибавит себе титул царица Туманностьандромедская, владычица галактическая и проч. и проч.
nedotykomkin
November 23 2013, 23:08:30 Local
Подсказали автору сюжет 28-й книги серии.


Это сообщение редактировалось 24.11.2013 в 11:11
http://rusf.ru/rybakov/pages/publ13.html
...
Судя не по ширпотребу, а по наиболее значительным, пиковым произведениям этого жанра, можно сказать, что сам по себе жанр альтернативной истории, как нельзя лучше выполняя присущие фантастике квазисакральные, объединительные функции, является в то же время третьей и высшей формой осмысления исторического материала.
Действительно, история - такая наука, в которой оценочный элемент не может не присутствовать хотя бы в скрытой форме. Даже работа с источниками и их перевод не могут считаться абсолютно беспристрастными. В той или иной степени мы вкладываем в создаваемые переводы свои интерпретации, возникающие под воздействием того, что мы думаем об эпохе создания данного текста и того, как мы представляем себе исторический процесс в целом.
...
Еще в большей степени все подобные издержки присущи концептуальным теоретическим трудам. Здесь без привнесения индивидуальных представлений о том, что для истории данной страны в данный момент хорошо, а что плохо, не пишется ни одной серьезной работы. Более того, в памяти остаются как значительные, крупные, оставляющие в науке след именно те работы, в которых оценочный, субъективный мотив присутствует наиболее ярко. Вспомнить хотя бы работы Льва Гумилева.
В альтернативной истории этот момент не приходится ни маскировать, ни стесняться его. Наоборот, без него и вне его вообще ничего невозможно сделать.
Конструирование положительной или отрицательной альтернативной модели просто невозможно без того, чтобы писатель не дал волю собственным представлениям о том, что такое хорошо и что такое плохо в истории вообще и в истории фигурирующей в его произведении страны в частности.
Конечно, уровень исторической грамотности, как и уровень литературных дарований, у всех различен. Но мы говорим по гамбургскому счету, и поделки вообще не входят в круг рассмотрения.
Однако, оговорюсь сразу, даже эти самые поделки существенны в качестве одного из параметров овеществленной и прошедшей через переработку массовым сознанием памяти народа - потому что они тоже (а зачастую, именно они - в силу своей невольной прямоты и аляповатой откровенности) отражают коллективные представления определенных групп населения о том, что должно было бы случиться, а что не должно. Чего люди хотят от истории, а чего не хотят. Если бы эти представления не были коллективными, соответствующие произведения просто не пользовалось бы спросом у читателей.
Более-менее серьезные же книги как нельзя лучше отражают коллективные чаяния и страхи, связанные с вариантами исторического развития, пусть не осуществившимися в прошлом, но еще вполне способными так или иначе осуществиться в будущем. Просто описание их как уже свершившихся делает подачу материала куда более наглядной, эмоционально убедительной, художественной. Не умозрительной, а переживаемой.
...
Весьма популярным в последние годы в фантастике стало создание альтернативных моделей более или менее современного состояния России. Что было бы, если? Если бы не революция 17 года? Если бы не Великая Отечественная война? Если бы не взорвали Александра Второго?
По понятным причинам это вполне объяснимо. Поиск причин и анализ следствий судорожного и криволинейного, во многом даже замкнутого в некий порочный круг развития нашей страны, в широких кругах людей, которые еще хоть как-то сохранили привычку к чтению, не мог не принять подобных форм.
Именно здесь коллективная память нации и ее коллективное же осмысление проявляются особенно ярко. Не в дискуссиях среди высших интеллектуалов, которые доступны относительно немногим. Не в межпартийной и до крайности политизированной и заторгованной ругани, не в стычках ангажированных журналистов, которым уже почти никто не верит, что бы они не говорили.
Именно здесь.
Я не могу, да и не хочу давать сколько-нибудь объемистый перечень таких произведений. Им несть числа; собственно, большинство хороших современных писателей из тех, что критика относит к фантастам, либо работает в жанре альтернативной истории регулярно, либо хоть изредка отдает ему дань. К тому же перечень - это всегда предлагаемый в завуалированной форме ранжир; а я ни имею ни малейшего права расставлять своих коллег по росту. Тем более, что я сам - заядлый альтернативщик, а стало быть, почти наверняка окажусь пристрастен.
Интереснее, на мой взгляд, привести буквально два-три полярных примера.
Вот, например, производящая очень сильное впечатление и эмоционально действительно мощная небольшая повесть Василия Щепетнева "Шестая часть тьмы". Она представляет собою перебор вариантов более-менее современного состояния России - логически малосвязанных один с другим, но в равной степени чрезвычайно отталкивающих и пугающих. Автор не углуб** в проработку того, какое именно "а если бы" привело к тому или иному варианту; один из них настолько альтернативен, что в нем Россия - империя Романовых воюет с коммунистической Европой, в сердце которой окопался Ленин. Но даже в этом варианте Россия все равно царство тьмы; как бы ни сложилась ее история, какие бы силы в России ни возобладали, по каким-то трансцендентным причинам страны хуже и страшнее ее в мире нет и быть не может.
Как ни относись к подобной концепции, нет сомнения, что подобное отношение к своей стране в наше время чрезвычайно характерно для многих населяющих ее людей. Щепетнев своим дарованием овеществил его, это отношение, дал ему вкус, запах и цвет; каждый, кто даст себе труд прочесть его повесть, может теперь взять его в руку и ощутить его вес. И прислушаться к себе: я это чувствую? Я ТОЖЕ это чувствую, как чувствует автор? Или я чувствую иначе?
Или, например, многотомная эпопея с детства любимого мною Кира Булычева "Река Хронос", часть "Заповедник для академиков". Историческая развилка у него обозначена совершенно конкретно: сталинский СССР первым занялся разработкой ядерного оружия, в 1939 году уже испытал первую атомную бомбу (естественно, на узниках ГУЛАГа), Гитлер с перепугу напал на Польшу на несколько месяцев раньше, чем это произошло в нашей реальности, Сталин вторую свою атомную бомбу зачем-то сбросил прямо на Варшаву, и по случайности как раз там в это время оказался и Гитлер. По неграмотности своих спецов вскоре и сам Сталин умер от лучевой болезни. А конец - делу венец, хэппи-энд таков: узнавшие местоположение советского ядерного полигона англо-американцы подняли в воздух армады своих бомбовозов и сровняли этот полигон с землей.
На мой личный вкус, автора за этот роман следовало бы премировать турпоездкой в Югославию в период натовских бомбардировок и пригласить на прием в китайское посольство минуты за три до того, как в него угодила битком набитая правами человека высокоточная американская ракета. Но это - чисто эмоционально; дойди до дела, я вряд ли оказался бы таким садистом. А вот то, что созданная автором модель является квинтэссенцией интеллигентского мифа - это уже не эмоции, это факт.
Тут и страх перед собственной страной - страх, в значительной степени вскормленный реальной ее историей, и все же гипертрофированный, совершенно панический и иррациональный.
Этой стране ничего нельзя, от нее один вред и ужас.
Тут и обожествление англо-американского центра силы. Автор, профессиональный историк, не мог не знать, что в тридцать девятом году англо-американцы сами никуда и на за что бы с бомбами не полетели - не было ни возможностей, ни воли. Автор не может не знать, что первыми атомную бомбу по живым людям применили именно США. И тем не менее создается впечатление, будто Америка и Англия являются для него неоспоримым и конечным идеалом - как военно-техническим, так и этическим; даже Хиросима, прямо в тексте не упоминаемая, ощущается чем-то вроде выдумки сталинской пропаганды.
Этим странам все можно, от них - только польза и счастье.
Нет нужды говорить, насколько распространены сейчас - а тем более, сколь они были распространены лет пять-семь назад - подобные взгляды. Честь и хвала Булычеву за то, что он воплотил их в столь ярких и эмоциональных образах. Гипертрофия и гротеск здесь почти абсолютны. Ни один правозащитник даже в тысяче речей перед телеобъективами не сумел бы этого сделать. Это не политика, не публицистика, не кухонное перемывание костей - это Большая Литература.
Противоположный подход к духовному диалогу-поединку России и евроатлантического ареала ярче всего на данный момент иллюстрирует, по моему разумению, эпопея "Плохих людей нет", вокруг которой поднялся сейчас изрядный шум. Начав выходить в питерском издательстве "Азбука", в ноябре 2000 года этот ни на что не похожий сериал к ноябрю 2001 года насчитывает уже четыре опубликованные книги: "Дело жадного варвара", "Дело незалежных дервишей", "Дело о полку Игореве" и "Дело лис-оборотней"; у сериала есть и свой сайт в Интернете. К созданию эпопеи я, однако, имею определенное отношение, а потому никак не могу ее оценивать публично.
Подытоживая, можно сказать следующее.
Альтернативные истории (как и отношение к ним) ценны для нас тем, что они, во-первых, как нельзя лучше характеризуют уровень исторической грамотности тех или иных групп населения.
Во-вторых, они с полной откровенностью демонстрируют характер и эмоциональную интенсивность отношения этих самых групп к тем или иным реальным или полуреальным, или даже вполне вымышленным историческим событиям.
И, наконец, в-третьих, с предельно возможной откровенностью обнажают исторические ожидания и фобии этих же самых групп.
Ни один другой вид исторического и историографического творчества на такое не способен.
...
Судя не по ширпотребу, а по наиболее значительным, пиковым произведениям этого жанра, можно сказать, что сам по себе жанр альтернативной истории, как нельзя лучше выполняя присущие фантастике квазисакральные, объединительные функции, является в то же время третьей и высшей формой осмысления исторического материала.
Действительно, история - такая наука, в которой оценочный элемент не может не присутствовать хотя бы в скрытой форме. Даже работа с источниками и их перевод не могут считаться абсолютно беспристрастными. В той или иной степени мы вкладываем в создаваемые переводы свои интерпретации, возникающие под воздействием того, что мы думаем об эпохе создания данного текста и того, как мы представляем себе исторический процесс в целом.
...
Еще в большей степени все подобные издержки присущи концептуальным теоретическим трудам. Здесь без привнесения индивидуальных представлений о том, что для истории данной страны в данный момент хорошо, а что плохо, не пишется ни одной серьезной работы. Более того, в памяти остаются как значительные, крупные, оставляющие в науке след именно те работы, в которых оценочный, субъективный мотив присутствует наиболее ярко. Вспомнить хотя бы работы Льва Гумилева.
В альтернативной истории этот момент не приходится ни маскировать, ни стесняться его. Наоборот, без него и вне его вообще ничего невозможно сделать.
Конструирование положительной или отрицательной альтернативной модели просто невозможно без того, чтобы писатель не дал волю собственным представлениям о том, что такое хорошо и что такое плохо в истории вообще и в истории фигурирующей в его произведении страны в частности.
Конечно, уровень исторической грамотности, как и уровень литературных дарований, у всех различен. Но мы говорим по гамбургскому счету, и поделки вообще не входят в круг рассмотрения.
Однако, оговорюсь сразу, даже эти самые поделки существенны в качестве одного из параметров овеществленной и прошедшей через переработку массовым сознанием памяти народа - потому что они тоже (а зачастую, именно они - в силу своей невольной прямоты и аляповатой откровенности) отражают коллективные представления определенных групп населения о том, что должно было бы случиться, а что не должно. Чего люди хотят от истории, а чего не хотят. Если бы эти представления не были коллективными, соответствующие произведения просто не пользовалось бы спросом у читателей.
Более-менее серьезные же книги как нельзя лучше отражают коллективные чаяния и страхи, связанные с вариантами исторического развития, пусть не осуществившимися в прошлом, но еще вполне способными так или иначе осуществиться в будущем. Просто описание их как уже свершившихся делает подачу материала куда более наглядной, эмоционально убедительной, художественной. Не умозрительной, а переживаемой.
...
Весьма популярным в последние годы в фантастике стало создание альтернативных моделей более или менее современного состояния России. Что было бы, если? Если бы не революция 17 года? Если бы не Великая Отечественная война? Если бы не взорвали Александра Второго?
По понятным причинам это вполне объяснимо. Поиск причин и анализ следствий судорожного и криволинейного, во многом даже замкнутого в некий порочный круг развития нашей страны, в широких кругах людей, которые еще хоть как-то сохранили привычку к чтению, не мог не принять подобных форм.
Именно здесь коллективная память нации и ее коллективное же осмысление проявляются особенно ярко. Не в дискуссиях среди высших интеллектуалов, которые доступны относительно немногим. Не в межпартийной и до крайности политизированной и заторгованной ругани, не в стычках ангажированных журналистов, которым уже почти никто не верит, что бы они не говорили.
Именно здесь.
Я не могу, да и не хочу давать сколько-нибудь объемистый перечень таких произведений. Им несть числа; собственно, большинство хороших современных писателей из тех, что критика относит к фантастам, либо работает в жанре альтернативной истории регулярно, либо хоть изредка отдает ему дань. К тому же перечень - это всегда предлагаемый в завуалированной форме ранжир; а я ни имею ни малейшего права расставлять своих коллег по росту. Тем более, что я сам - заядлый альтернативщик, а стало быть, почти наверняка окажусь пристрастен.
Интереснее, на мой взгляд, привести буквально два-три полярных примера.
Вот, например, производящая очень сильное впечатление и эмоционально действительно мощная небольшая повесть Василия Щепетнева "Шестая часть тьмы". Она представляет собою перебор вариантов более-менее современного состояния России - логически малосвязанных один с другим, но в равной степени чрезвычайно отталкивающих и пугающих. Автор не углуб** в проработку того, какое именно "а если бы" привело к тому или иному варианту; один из них настолько альтернативен, что в нем Россия - империя Романовых воюет с коммунистической Европой, в сердце которой окопался Ленин. Но даже в этом варианте Россия все равно царство тьмы; как бы ни сложилась ее история, какие бы силы в России ни возобладали, по каким-то трансцендентным причинам страны хуже и страшнее ее в мире нет и быть не может.
Как ни относись к подобной концепции, нет сомнения, что подобное отношение к своей стране в наше время чрезвычайно характерно для многих населяющих ее людей. Щепетнев своим дарованием овеществил его, это отношение, дал ему вкус, запах и цвет; каждый, кто даст себе труд прочесть его повесть, может теперь взять его в руку и ощутить его вес. И прислушаться к себе: я это чувствую? Я ТОЖЕ это чувствую, как чувствует автор? Или я чувствую иначе?
Или, например, многотомная эпопея с детства любимого мною Кира Булычева "Река Хронос", часть "Заповедник для академиков". Историческая развилка у него обозначена совершенно конкретно: сталинский СССР первым занялся разработкой ядерного оружия, в 1939 году уже испытал первую атомную бомбу (естественно, на узниках ГУЛАГа), Гитлер с перепугу напал на Польшу на несколько месяцев раньше, чем это произошло в нашей реальности, Сталин вторую свою атомную бомбу зачем-то сбросил прямо на Варшаву, и по случайности как раз там в это время оказался и Гитлер. По неграмотности своих спецов вскоре и сам Сталин умер от лучевой болезни. А конец - делу венец, хэппи-энд таков: узнавшие местоположение советского ядерного полигона англо-американцы подняли в воздух армады своих бомбовозов и сровняли этот полигон с землей.
На мой личный вкус, автора за этот роман следовало бы премировать турпоездкой в Югославию в период натовских бомбардировок и пригласить на прием в китайское посольство минуты за три до того, как в него угодила битком набитая правами человека высокоточная американская ракета. Но это - чисто эмоционально; дойди до дела, я вряд ли оказался бы таким садистом. А вот то, что созданная автором модель является квинтэссенцией интеллигентского мифа - это уже не эмоции, это факт.
Тут и страх перед собственной страной - страх, в значительной степени вскормленный реальной ее историей, и все же гипертрофированный, совершенно панический и иррациональный.
Этой стране ничего нельзя, от нее один вред и ужас.
Тут и обожествление англо-американского центра силы. Автор, профессиональный историк, не мог не знать, что в тридцать девятом году англо-американцы сами никуда и на за что бы с бомбами не полетели - не было ни возможностей, ни воли. Автор не может не знать, что первыми атомную бомбу по живым людям применили именно США. И тем не менее создается впечатление, будто Америка и Англия являются для него неоспоримым и конечным идеалом - как военно-техническим, так и этическим; даже Хиросима, прямо в тексте не упоминаемая, ощущается чем-то вроде выдумки сталинской пропаганды.
Этим странам все можно, от них - только польза и счастье.
Нет нужды говорить, насколько распространены сейчас - а тем более, сколь они были распространены лет пять-семь назад - подобные взгляды. Честь и хвала Булычеву за то, что он воплотил их в столь ярких и эмоциональных образах. Гипертрофия и гротеск здесь почти абсолютны. Ни один правозащитник даже в тысяче речей перед телеобъективами не сумел бы этого сделать. Это не политика, не публицистика, не кухонное перемывание костей - это Большая Литература.
Противоположный подход к духовному диалогу-поединку России и евроатлантического ареала ярче всего на данный момент иллюстрирует, по моему разумению, эпопея "Плохих людей нет", вокруг которой поднялся сейчас изрядный шум. Начав выходить в питерском издательстве "Азбука", в ноябре 2000 года этот ни на что не похожий сериал к ноябрю 2001 года насчитывает уже четыре опубликованные книги: "Дело жадного варвара", "Дело незалежных дервишей", "Дело о полку Игореве" и "Дело лис-оборотней"; у сериала есть и свой сайт в Интернете. К созданию эпопеи я, однако, имею определенное отношение, а потому никак не могу ее оценивать публично.
Подытоживая, можно сказать следующее.
Альтернативные истории (как и отношение к ним) ценны для нас тем, что они, во-первых, как нельзя лучше характеризуют уровень исторической грамотности тех или иных групп населения.
Во-вторых, они с полной откровенностью демонстрируют характер и эмоциональную интенсивность отношения этих самых групп к тем или иным реальным или полуреальным, или даже вполне вымышленным историческим событиям.
И, наконец, в-третьих, с предельно возможной откровенностью обнажают исторические ожидания и фобии этих же самых групп.
Ни один другой вид исторического и историографического творчества на такое не способен.


Прямо у нас на форуме - сабж:


Прошу консультации летчиков
Всем привет! Поздравляю доблестных пилотов ИБА и ИА с прошедшими/пережитыми праздниками. А теперь суть моей просьбы, если у кого есть желание - просмотреть книгу в части описания воздушной войны и накидать тапок с точки зрения профессионалов. Тапки прошу кидать в комментариях к основному файлу, вот собственно, ссылка: Грибанов Роман Борисович. Цена ошибки Пролог 02 августа 1943 года, Соломоновы острова, 10 миль к северо-востоку от острова Коломбангара, эсминец Императорского флота…// ИБА

...и опять на примере Польши 

Главная мечта польской альтернативной реальности


Poland strong: как Польша победила Третий рейх
Как победить во Второй мировой? Всё просто: находите Сталина, перепеваете ему Высоцкого, убиваете Хрущёва — и враги повержены. А если вы… Польша? // warhead.suВ Польше даже выпускается специальная книжная серия в жанре альтернативной истории — Zwrotnicy Czasu («Поворотные стрелки времени»); а некоторые поляки называют идею «победного сентября» национальной манией.
Юлиуш Махульский, создатель легендарных комедий «Ва-банк» и «Новые амазонки» (aka «Секс-миссия»), тоже не упустил шанса воплотить некоторые польские мечты на экране. В фильме «ПосольССтво» (Ambassada, 2013) современная независимая варшавянка (девушка, а не песня и не подлодка) случайно попадает в немецкое посольство в Варшаве. Посольство конца августа 1939 года — то есть за считаные часы до Главной Даты польской истории.
А именно — первое сентября 1939 года: «снова в Польшу», затем освободительный поход Красной армии, оккупация вермахтом и прочее нехорошее (для поляков). Махульский не был бы собой, если б не обстебал наиболее розовые фантазии соотечественников совершенно гениальным образом.
Главная мечта польской альтернативной реальности


Fakir> ...и опять на примере Польши 
Концовка статьи зачётная:

Концовка статьи зачётная:
Так что современные польские авторы (например, Земовит Щерек) нередко топчут мечты о величии Речи Посполитой с «грацией» танковой дивизии вермахта. Ведь за сладкими грёзами они видят жестокую реальность — как XX века, так и XXI.
Может быть, и нам пора перестать перепевать Высоцкого и поучать Сталина?
Подробности на warhead.su:
Poland strong: как Польша победила Третий рейх
Как победить во Второй мировой? Всё просто: находите Сталина, перепеваете ему Высоцкого, убиваете Хрущёва — и враги повержены. А если вы… Польша? // warhead.su


Оказывается, и Дивов мимоходом высказался по поводу, уж не знаю в каком году - только, ради разнообразия, уже не про поляков, а про нас.
Олег Дивов
Окончательный диагноз, или соболезнования патологоанатома
Олег Дивов
Окончательный диагноз, или соболезнования патологоанатома
Третий козырь МТА — глубинная, выстраданная народность. Поэтому наша альтернативная история сплошь история того, как русские вломили тем, до кого не дотянулись в реале. А наша утопия — про то, как Америка напала на Россию и сильно пожалела (ибо вломили, естественно). Или про то, как откуда ни возьмись пришел на Русь Президент с замашками фольклорного царя-батюшки (олигархов под корень, неруси в хрюсло, дитям мороженое, бабе цветы). Предлагаю от себя беспроигрышную фабулу: Путин расстрелял Абрамовича и национализировал футбольный клуб «Челси».


Copyright © Balancer 1997..2022
Создано 18.09.2008
Связь с владельцами и администрацией сайта: anonisimov@gmail.com, rwasp1957@yandex.ru и admin@balancer.ru.
Создано 18.09.2008
Связь с владельцами и администрацией сайта: anonisimov@gmail.com, rwasp1957@yandex.ru и admin@balancer.ru.
 Anika
Anika


 инфо
инфо инструменты
инструменты aspid_h
aspid_h
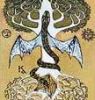
 russo
russo

 Fakir
Fakir

 Vale
Vale

 Fakir
Fakir
 Fakir
Fakir

 stas27
stas27

