-
![[image]](https://www.balancer.ru/cache/uploads/images/1247/128x128-crop/1247597-5655189.jpg)
Наука в России сегодня
без политикиТеги:
Fakir> Образование же к ведению РАН вообще не относится, так что даже "по должности не обязаны".
щас уже, похоже, относится
вон Красников собрался курировать учебники
ой, всё©
там вообще такое эмм.. тотальное кураторство всего наметилось.
избранные (явно не без иронии) цитаты с сайта сибирского отделения

а вот по поводу назначения директоров:
даже не знаю что сказать, слов нет какое душнилово
щас уже, похоже, относится
вон Красников собрался курировать учебники
ой, всё©
там вообще такое эмм.. тотальное кураторство всего наметилось.
избранные (явно не без иронии) цитаты с сайта сибирского отделения
Президент РАН академик Геннадий Красников: «Фундаментальные исследования должны вестись широким фронтом, так как велика вероятность случайных прорывов. Многие фундаментальные открытия были совершены случайно, и мы не знаем, на каком направлении этот прорыв может произойти. <>
Даже если прорыв произойдет не у нас в стране, то в России должны быть специалисты, готовые подхватить тему. В частности, поэтому мы сейчас внимательно смотрим, какими направлениями научных исследований занимается каждый институт, в том числе — соответствуют ли они названию, профилю института. На определенном этапе многие институты отошли от своего первоначального научного профиля, стали заниматься модными темами. В результате сложилась ситуация, когда многие направления научных исследований оказались неохваченными. <>
Мы вводим понятие востребованных научных исследований. Допустим, кому-то нужна новая математическая модель, а кому-то — уникальный научный прибор. Если какое-то российское ведомство или высокотехнологичная компания говорит, что им нужны те или иные фундаментальные исследования и они готовы дальше профинансировать уже ОКР, то мы считаем это исследование востребованным».

Новости | Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН)
Поздравления с Днем России Выборы в РАН 2022 К 65-летию СО РАН Поздравления к 65-летию СО РАН Пресс-служба Президиума СО РАН Большая Норильская экспедиция Иркутский филиал СО РАН Базовые школы РАН Академический час для школьников НГУ - СО РАН Президент РАН академик Геннадий Красников: «Фундаментальные исследования должны вестись широким фронтом, так как велика вероятность случайных прорывов. Многие фундаментальные открытия были совершены случайно, и мы не знаем, на каком направлении этот прорыв может произойти. // Дальше — www.sbras.ruа вот по поводу назначения директоров:
Второе очень важное направление, которое мы развиваем, — это научно-методическое руководство исследованиями. Если раньше оно заключалось в том, что мы раз в пять лет рекомендовали на выборах кандидатуру на должность директоров научных организаций, то сейчас все по-другому. Мы гораздо активнее участвуем в решении кадровых вопросов. И не только рекомендуем директора, но и потом ведем мониторинг его работы. Раз в 2-3 года будем направлять комиссии, чтобы смотреть, что происходит в институтах, каких результатов они достигли, какая у них приборная база, научные школы, как именно осуществляется научное руководство институтом. Зачастую раньше ученые просто отчитывались научными публикациями, и если к ним замечаний не было, то вроде бы и результата они достигли. Сейчас ситуация изменилась.
даже не знаю что сказать, слов нет какое душнилово


э.х.> даже не знаю что сказать, слов нет какое душнилово
"Есть мнение".
Что научно-технический прогресс как бэ несколько слишком разогнался.
На это мнение бюрократы правда ссылаться не будут.
Потому что не будут.
Ну как ты будешь на него ссылаться, если айфон?
"Есть мнение".
Что научно-технический прогресс как бэ несколько слишком разогнался.
На это мнение бюрократы правда ссылаться не будут.
Потому что не будут.
Ну как ты будешь на него ссылаться, если айфон?


э.х.>> а РАН пусть дальше плачет, что количество сдающих ЕГЭ по физике и математике упало за последние годы БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА, как вчера в интервью сказал Красников
Fakir> Как будто это ну хоть как-то зависит от РАН.
от РАН зависело сохранение себя как института, имеющего консолидированную экспертную позицию (в том числе и по вопросам научности школьной программы), формируемую назависимо от министерств.
вместо этого имеем кураторство, лояльность и молчаливое потворство мракобесию.
РАН не встаёт на дыбы от учебников истории, от предложений убрать эволюцию, от уголовных дел на учёных.
если раньше были какие-то попытки сопротивляться, то после красноречивого снятия Сергеевым (хирш 78) своей кандидатуры два года назад и воцарения Красникова, директора АО (хирш 9), РАН потеряла репутацию независимого института, стерев грань между наукой и чиновничеством (к вопросу имиджа в глазах общества - подчинение и исполнительность вместо свободы и объективности)
как это может быть связано с (не)желанием идти в науку
например вот так:
(это из Открытого письма сотрудников Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ СО РАН), легко найти в сети)
эта тема была замята, как и другие подобные инициативы "снизу"
РАН не созвала открытого заседания с прямой трансляцией
не провела пресс-конференции
не начала кампанию по защите
и вообще никак не выступила единым фронтом как институт
как это повлияло на репутацию и уважение к РАН среди учёных и в публичном поле, можно представить.
попутно попался ещё один штришок
не столько к трансформации РАН, сколько к отсутствию престижа
Андроник Арутюнов, докт. физ.-мат. наук, ст. науч. сотр. ИПУ РАН:
(отвечает недавно на вопрос, что даёт силы):
интересно, сколько месяцев ведущий научный сотрудник, доктор наук будет копить на замену батареи в даймлере
это Москва
Fakir> Как будто это ну хоть как-то зависит от РАН.
от РАН зависело сохранение себя как института, имеющего консолидированную экспертную позицию (в том числе и по вопросам научности школьной программы), формируемую назависимо от министерств.
вместо этого имеем кураторство, лояльность и молчаливое потворство мракобесию.
РАН не встаёт на дыбы от учебников истории, от предложений убрать эволюцию, от уголовных дел на учёных.
если раньше были какие-то попытки сопротивляться, то после красноречивого снятия Сергеевым (хирш 78) своей кандидатуры два года назад и воцарения Красникова, директора АО (хирш 9), РАН потеряла репутацию независимого института, стерев грань между наукой и чиновничеством (к вопросу имиджа в глазах общества - подчинение и исполнительность вместо свободы и объективности)
как это может быть связано с (не)желанием идти в науку
например вот так:
Самым страшным в данной ситуации является влияние создавшейся атмосферы на научную молодежь. Уже сейчас лучшие студенты отказываются идти к нам работать, а наши лучшие молодые сотрудники уходят из науки. Ряд научных направлений, критически важных для создания фундаментального задела, необходимого для создания аэрокосмической техники будущего, просто закрывается, потому что сотрудники боятся заниматься такими исследованиями. Это затрагивает не только аэродинамику. Все общество шокировал и возмутил случай со смертью арестованного специалиста по квантовой оптике из Новосибирска Дмитрия Владимировича Колкера летом 2022 года. Молодые специалисты понимают, что подобное может коснуться любой научной дисциплины, что делает для них работу в науке непривлекательной. Без постоянного притока молодежи научные школы существовать не могут. Падение уровня исследований, связанное со старением ученых, разрушением преемственности поколений специалистов, проявится не моментально, но постепенно станет необратимым и стремительным. Фактически, сейчас видны признаки повторения ситуации 90-х годов прошлого века. Второго такого удара отечественная наука может не перенести.
(это из Открытого письма сотрудников Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ СО РАН), легко найти в сети)
эта тема была замята, как и другие подобные инициативы "снизу"
РАН не созвала открытого заседания с прямой трансляцией
не провела пресс-конференции
не начала кампанию по защите
и вообще никак не выступила единым фронтом как институт
как это повлияло на репутацию и уважение к РАН среди учёных и в публичном поле, можно представить.
попутно попался ещё один штришок
не столько к трансформации РАН, сколько к отсутствию престижа
Андроник Арутюнов, докт. физ.-мат. наук, ст. науч. сотр. ИПУ РАН:
(отвечает недавно на вопрос, что даёт силы):
Честно говоря, внешних факторов бодрости нет. По случаю защиты диссертации был обрадован возможностью получить повышение (и не дозы лекарств) по основному месту работы до целого ведущего научного сотрудника. Когда увидел оклад в 35 тыщ, честно говоря, захотелось вообще уволиться и пойти все-таки работать курьером, это явно выгоднее.
На самом деле очень огорчает и вгоняет в уныние осознание собственной фактической несовместимости с российской академической системой. Но тут ничего нового. Отбоя не было — борьба продолжается.
интересно, сколько месяцев ведущий научный сотрудник, доктор наук будет копить на замену батареи в даймлере
это Москва


э.х.> от РАН зависело сохранение себя как института, имеющего консолидированную экспертную позицию (в том числе и по вопросам научности школьной программы), формируемую назависимо от министерств.
Да ничего от неё давно не зависело.
"Абрам, говорят, тебе дали по морде, а ты никак не отреагировал? - Это я не отреагировал?! А кто упал?!!"
э.х.> РАН не встаёт на дыбы от учебников истории, от предложений убрать эволюцию, от уголовных дел на учёных.
Да хоть завставайся. Году в 2004-м или 2005 были академические митинги-пикеты у Белого дома (помнится, ходили тогда) - на что-то оно повлияло? Щазз.
э.х.> если раньше были какие-то попытки сопротивляться, то после
...слияния "академиков, акамедиков и акап...ков" всё стало предельно ясно.
э.х.> красноречивого снятия Сергеевым (хирш 78) своей кандидатуры два года назад и воцарения Красникова, директора АО (хирш 9),
Стало от этого хуже? Не, не стало.
Хершами мериться - занятия не совсем для академиков, и тем более не для президентов. Я, кстати, даже не знаю, а какой хирш был у Вавилова, Несмеянова или Александрова? Не говоря уж о тех, кто "добезцаря".
э.х.> РАН не созвала открытого заседания с прямой трансляцией
э.х.> не провела пресс-конференции
э.х.> не начала кампанию по защите
э.х.> и вообще никак не выступила единым фронтом как институт
...потому что всё это не изменило бы ничего ни на йоту.
Какие-то там слова РАН, кстати, произносила. Не изменившие ничего.
э.х.> как это может быть связано с (не)желанием идти в науку
Как-то конечно связано. Но несильно. Потому что не на желание в науку вообще, а в конкретные места и темы. Это, увы, есть. Несколько лет как. Но на общее - не влияет.
э.х.> не столько к трансформации РАН, сколько к отсутствию престижа
...просто отсутствию денег.
Потому как дело тупо в отсутствии денег на работу и жизнь. Потому что даже положенные по закону масштабы отчислений на науку не выполняются систематически, давно и минимум вдвое, и достижение этих 2% только ставится в план к 2030.
Кто при этом президентом (в смысле РАН, но и не только), кто его там выбирает или назначает - вообще до попы. Волнует чуть больше, чем личность текущего Папы Римского или Далай-Ламы.
Да ничего от неё давно не зависело.
"Абрам, говорят, тебе дали по морде, а ты никак не отреагировал? - Это я не отреагировал?! А кто упал?!!"
э.х.> РАН не встаёт на дыбы от учебников истории, от предложений убрать эволюцию, от уголовных дел на учёных.
Да хоть завставайся. Году в 2004-м или 2005 были академические митинги-пикеты у Белого дома (помнится, ходили тогда) - на что-то оно повлияло? Щазз.
э.х.> если раньше были какие-то попытки сопротивляться, то после
...слияния "академиков, акамедиков и акап...ков" всё стало предельно ясно.
э.х.> красноречивого снятия Сергеевым (хирш 78) своей кандидатуры два года назад и воцарения Красникова, директора АО (хирш 9),
Стало от этого хуже? Не, не стало.
Хершами мериться - занятия не совсем для академиков, и тем более не для президентов. Я, кстати, даже не знаю, а какой хирш был у Вавилова, Несмеянова или Александрова? Не говоря уж о тех, кто "добезцаря".
э.х.> РАН не созвала открытого заседания с прямой трансляцией
э.х.> не провела пресс-конференции
э.х.> не начала кампанию по защите
э.х.> и вообще никак не выступила единым фронтом как институт
...потому что всё это не изменило бы ничего ни на йоту.
Какие-то там слова РАН, кстати, произносила. Не изменившие ничего.
э.х.> как это может быть связано с (не)желанием идти в науку
Как-то конечно связано. Но несильно. Потому что не на желание в науку вообще, а в конкретные места и темы. Это, увы, есть. Несколько лет как. Но на общее - не влияет.
э.х.> не столько к трансформации РАН, сколько к отсутствию престижа
...просто отсутствию денег.
Потому как дело тупо в отсутствии денег на работу и жизнь. Потому что даже положенные по закону масштабы отчислений на науку не выполняются систематически, давно и минимум вдвое, и достижение этих 2% только ставится в план к 2030.
Кто при этом президентом (в смысле РАН, но и не только), кто его там выбирает или назначает - вообще до попы. Волнует чуть больше, чем личность текущего Папы Римского или Далай-Ламы.


э.х.>> красноречивого снятия Сергеевым (хирш 78) своей кандидатуры два года назад и воцарения Красникова, директора АО (хирш 9),
Fakir> Стало от этого хуже? Не, не стало.
oткрытых дискуссий, кмк, стало меньше
я помню как в 2017 году перед голосованием все спорили и критиковали текущее положение дел в РАН.
отчисления на науку, конечно, все поминали и сравнивали с западными.
Сергеев, кстати предложил тогда где деньги взять - ввести обязательные отчисления на науку с прибылей нефтегазового сектора
который существует благодаря научным разработкам, как сказал Сергеев.
может поэтому его и выбрали, по крайней мере аплодисментов был шквал
а по поводу хиршей я согласен с Робертом Нигматулиным (он тогда тоже выступал)
он постоянно говорит во всех интервью что трагедия науки в том, что ею управляют из министерсих кресел
"переводчики и всякие социологи" намекая понятно на кого, но только не учёные.
сравнивает с СССР и вспоминает авторитет академиков, в частности Александорва, которого съезд слушал не перебивая даже если он превышал регламент в разы.
конечно, хирш это условность - речь скорее об опыте работы непосредственно в науке, а не в управлении.
хирш коррелирует с этим только косвенно
Fakir> Стало от этого хуже? Не, не стало.
oткрытых дискуссий, кмк, стало меньше
я помню как в 2017 году перед голосованием все спорили и критиковали текущее положение дел в РАН.
отчисления на науку, конечно, все поминали и сравнивали с западными.
Сергеев, кстати предложил тогда где деньги взять - ввести обязательные отчисления на науку с прибылей нефтегазового сектора
который существует благодаря научным разработкам, как сказал Сергеев.
может поэтому его и выбрали, по крайней мере аплодисментов был шквал
а по поводу хиршей я согласен с Робертом Нигматулиным (он тогда тоже выступал)
он постоянно говорит во всех интервью что трагедия науки в том, что ею управляют из министерсих кресел
"переводчики и всякие социологи" намекая понятно на кого, но только не учёные.
сравнивает с СССР и вспоминает авторитет академиков, в частности Александорва, которого съезд слушал не перебивая даже если он превышал регламент в разы.
конечно, хирш это условность - речь скорее об опыте работы непосредственно в науке, а не в управлении.
хирш коррелирует с этим только косвенно


э.х.> Сергеев, кстати предложил тогда где деньги взять - ввести обязательные отчисления на науку с прибылей нефтегазового сектора
"Зъист-то он зъист, да хто ж ему даст" © украинский анекдот
э.х.> он постоянно говорит во всех интервью что трагедия науки в том, что ею управляют из министерсих кресел
э.х.> "переводчики и всякие социологи" намекая понятно на кого, но только не учёные.
Ну и причём тут Красников? Что он, что Сергеев, что покойный Фортов (глыбища!) - а всё равно ФАНО, и выше головы не прыгнешь.
э.х.> конечно, хирш это условность - речь скорее об опыте работы непосредственно в науке, а не в управлении.
Ну и какие претензии к Красникову? Всякое о нём слышал, и с критикой, и с похвалами, и с прихихикиваньем, и без, но ни от кого не слышал, что он не понимает в науке и что он пустое место. Даром что злые языки обычно способны такое сказать про кого угодно: как Капица про Вавилова во время оно.
Там разок достаточно послушать, и понятно, что человек в целом понимающий. Как и, к слову, Борисов. Ну а толку? Выходит, этого мало.
"Зъист-то он зъист, да хто ж ему даст" © украинский анекдот
э.х.> он постоянно говорит во всех интервью что трагедия науки в том, что ею управляют из министерсих кресел
э.х.> "переводчики и всякие социологи" намекая понятно на кого, но только не учёные.
Ну и причём тут Красников? Что он, что Сергеев, что покойный Фортов (глыбища!) - а всё равно ФАНО, и выше головы не прыгнешь.
э.х.> конечно, хирш это условность - речь скорее об опыте работы непосредственно в науке, а не в управлении.
Ну и какие претензии к Красникову? Всякое о нём слышал, и с критикой, и с похвалами, и с прихихикиваньем, и без, но ни от кого не слышал, что он не понимает в науке и что он пустое место. Даром что злые языки обычно способны такое сказать про кого угодно: как Капица про Вавилова во время оно.
Там разок достаточно послушать, и понятно, что человек в целом понимающий. Как и, к слову, Борисов. Ну а толку? Выходит, этого мало.


уже писал летом о деле Олега Кабова, новосибирского учёного
на днях начались слушания сторон, прокуратура запросила семь(!) лет
если коротко: исследование проведено якобы некачественно (выполнено только на 37,76%), а значит деньги присвоены.
формулировка адвоката(ссылка на его тг ниже): "Увы, ситуация абсурда, когда Кабов О.А. обвиняется в несоздании экспериментальной установки и экспериментального образца, при том, что они есть в наличии в Институте теплофизики СО РАН, сохраняется"
то есть установка (экпериментальная!) сделана, но работает не так как хотелось бы в идеале.
обвинение в некачественности исследования построено на экспертизе РИНКЦЭ, проведённой двумя не специалистами
летом было больше публично высказанного возмущения учёных, включая письмо Нигматулиных (я его цитировал летом).
сейчас голосов и публичного обсуждения стало меньше
привожу вчерашний пост из телеграма академика Алексея Хохлова
сломали человеку жизнь
и лишили институт (если не отрасль) ведущего учёного
на днях начались слушания сторон, прокуратура запросила семь(!) лет
если коротко: исследование проведено якобы некачественно (выполнено только на 37,76%), а значит деньги присвоены.
формулировка адвоката(ссылка на его тг ниже): "Увы, ситуация абсурда, когда Кабов О.А. обвиняется в несоздании экспериментальной установки и экспериментального образца, при том, что они есть в наличии в Институте теплофизики СО РАН, сохраняется"
то есть установка (экпериментальная!) сделана, но работает не так как хотелось бы в идеале.
обвинение в некачественности исследования построено на экспертизе РИНКЦЭ, проведённой двумя не специалистами
летом было больше публично высказанного возмущения учёных, включая письмо Нигматулиных (я его цитировал летом).
сейчас голосов и публичного обсуждения стало меньше
привожу вчерашний пост из телеграма академика Алексея Хохлова
В Новосибирске продолжается судебный процесс по обвинению члена-корреспондента РАН О.А.Кабова в ненадлежащем выполнении им научного проекта в 2014-2016 годах в рамках ФЦП «Исследования и разработки» (что стороной обвинения квалифицируется как мошенничество). Я здесь неоднократно писал об этом странном деле (предыдущие посты были опубликованы 29 октября, 3 и 6 декабря), которое, по своей сути, представляет собой вмешательство правоохранительных органов в чисто научные вопросы.
На этой неделе процесс вступил в следующую стадию – прения сторон. Первой высказалась сторона обвинения. Помощница прокурора Яна Кузьмина выступила с короткой 8-минутной речью, зачитанной монотонным голосом. В этой речи обвинение не приняло во внимание никакие прозвучавшие в ходе судебных заседаний доводы о высоком научном уровне результатов О.А.Кабова и его коллег. Прокуратура запросила для Олега Александровича семь лет колонии, большой штраф, а также запрет на деятельность, связанную с руководством научными проектами (!), еще на три года после отбытия наказания:
Прокуратура потребовала семь лет колонии для новосибирского ученого-физика
Подробнее на сайте // www.kommersant.ru
И уже как «вишенка на торте», утверждение молодой помощницы прокурора о том, что этот трехлетний мораторий на научную деятельность будет способствовать «исправлению» 69-летнего члена-корреспондента РАН. Аудиозапись выступления со стороны обвинения приведена в ТГ-канале адвоката:
Адвокат Геннадий Шишебаров
ДЕЛО УЧЕНОГО КАБОВА РЕЧЬ ГОСОБВИНИТЕЛЯ Сегодня перед началом выступления прокурора в прениях суд рассмотрел наши последние ходатайства (см. мои посты от 13.01.2025, от 14.01.2025, от 17.01.2025 и от 20.01.2025). Мои и Кабова О.А. дополнения к жалобам на действия (бездействия) и решения следователей суд приобщил к уголовному делу, постановив их рассмотреть при вынесении окончательного решения по делу. При этом суд отказался истребовать из следственного органа отсутствующие в уголовном деле документы, сославшись на отсутствие у него соответствующих полномочий. Письмо АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» суд приобщил к уголовному делу. В ходатайстве о назначении по уголовному делу комиссионной судебной научно-технической экспертизы в отношении экспериментальной установки и экспериментального образца суд отказал, сославшись на то, что ответ на поставленный в ходатайстве перед экспертами вопрос можно найти в других доказательствах по уголовному делу. Такая мотивировка не является убедительной, поскольку оценку доказательств, в том числе, на предмет их достаточности, суд должен осуществлять после удаления в совещательную комнату для принятия окончательного решения по уголовному делу. Увы, ситуация абсурда, когда Кабов О.А. обвиняется в несоздании экспериментальной установки и экспериментального образца, при том, что они есть в наличии в Институте теплофизики СО РАН, сохраняется. После этого с речью выступила государственный обвинитель. Ее речь была краткой, длилась чуть более 8 минут. Гособвинитель попросила суд признать Кабова О.А. виновным, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, большой штраф и в качестве дополнительного наказания - запретить ему в течение 3 лет после отбытия основного наказания заниматься научной деятельностью. Прослушать речь гособвинителя можно в приложенном аудиофайле. Те, кто следил за ходом судебного разбирательства уголовного дела в отношении Кабова О.А., поймут, что гособвинитель, требуя признать Кабова О.А. виновным и назначить ему столь суровое наказание, не потрудилась проанализировать доказательства по уголовному делу, в том числе, многочисленные доказательства предоставленные стороной защиты, в нарушение презумпции невиновности не стала опровергать доводы в защиту Кабова О.А. Кроме того, она сослалась на явно неотносимые доказательства (свидетель Гатапова Е.Я., которая якобы в фонд лаборатории института в общей сложности передала более миллиона рублей, в обвинении Кабову О.А. не фигурирует, ее нет в числе тех, кто якобы получил незаконную надбавку к зарплате). Подробнее выскажусь в своей речи в прениях. Следующее судебное заседание состоится 28.01.2025 в 10:00 часов. В прениях с речами выступит сторона защиты. #делоКабова // t.me
Напомню, что О.А.Кабов – ведущий ученый мирового уровня, один из наиболее цитируемых российских ученых в своей области, входит в 2% наиболее цитируемых ученых мира. Профильное Отделение энергетики, механики, машиностроения и процессов управления РАН высоко оценило результаты выполнения проекта под руководством О.А.Кабова (см. пост от 8 октября), отметив, что «все плановые показатели Соглашения, подписанного с Министерством, были выполнены, а по количеству публикаций в индексируемых в международных базах журналах и по объему привлеченных средств они были перевыполнены. В целом, благодаря выполнению Проекта российские ученые вошли в группу мировых лидеров в этой области науки. Была сформулирована и обоснована новая научная идея повышения интенсивности теплообмена, включая методику ее осуществления.»
Прокуратура предпочла все это не заметить, а также не принять во внимание обращения с места работы Олега Александровича, Института теплофизики СО РАН, которые демонстрируют важные научные результаты, полученные уже после выполнения проекта на установке, которая была создана под руководством О.А.Кабова в ходе выполнения проекта в 2014-2016 гг., и которая, по мнению обвинения «не существует».
Я уж не говорю об издевательском (по сути) запрете на руководство научными проектами. Ученый занимается наукой до тех пор, пока у него есть голова на плечах, и никто этого ему запретить не может. Мне сразу вспомнился пример академика И.В.Обреимова, который написал книгу «О причинах френелевой дифракции для физических и технических измерений», находясь в заключении. В 1946 году за этот «научный проект» он получил Сталинскую премию первой степени.
Впрочем, возможно, сторона обвинения решила ограничиться столь бледным выступлением, чувствуя всю шаткость своей позиции. Будем ждать выступлений со стороны защиты на заседании 28 января. Надеюсь, что суд не зря заслушивал многочисленные свидетельские показания и отзывы на протяжении 9 месяцев. И в итоге будет принято справедливое решение.
сломали человеку жизнь
и лишили институт (если не отрасль) ведущего учёного


э.х.> то после красноречивого снятия Сергеевым (хирш 78)
Помнится, у некого профессора Сергеева хирш был ровно ноль, но именно его изделия наделали столько шуму, что весь мир срочно выучил новок слово: Sputnik.
Не говорит этот самый хирш ничего о реальной ценности ученого. И совершенно правильно поставлен вопрос что нельзя ставить во главу оценки учёного количество его публикаций. А то вот так и дают потом деньги проходимцам которые умеют пробивать публикации в журналах, но больше не умеют ничего. А потом удивляетесь, почему у них установки не работают
Помнится, у некого профессора Сергеева хирш был ровно ноль, но именно его изделия наделали столько шуму, что весь мир срочно выучил новок слово: Sputnik.
Не говорит этот самый хирш ничего о реальной ценности ученого. И совершенно правильно поставлен вопрос что нельзя ставить во главу оценки учёного количество его публикаций. А то вот так и дают потом деньги проходимцам которые умеют пробивать публикации в журналах, но больше не умеют ничего. А потом удивляетесь, почему у них установки не работают


U235> Помнится, у некого профессора Сергеева хирш был ровно ноль, но именно его изделия наделали столько шуму, что весь мир срочно выучил новок слово: Sputnik.
U235> Не говорит этот самый хирш ничего о реальной ценности ученого. И совершенно правильно поставлен вопрос что нельзя ставить во главу оценки учёного количество его публикаций. А то вот так и дают потом деньги проходимцам которые умеют пробивать публикации в журналах, но больше не умеют ничего. А потом удивляетесь, почему у них установки не работают
Х..ню ты несёшь.
Да, хирш не является исчерпывающим параметром.
Да, бывают крупные учёные с небольшим хиршем (тем более это от конкретной области работы зависит, цитируемости разные, и тот же FWCI даже наукометристы придумали - хоть что-то дошло).
Да, бывают и надутые (или хотя бы чуть поддутые).
Но набрать Хирша в 78 или даже 30, ничего из себя не представляя в науке - невозможно. Даже и 6-8- оччень нелегко (или дорого: обойдётся как бы не под сотню килобаксов и возню, если делать так, чтоб не сразу было палево с одного взгляда). Никакой проходимец, ни один Петрик и Лысенко не сумеют. Если такое вдруг кому-то удастся, то этот человек как минимум имеет организаторские способности на редкостно высоком уровне.
Так что кое-что Хирш говорит. Не всё, не всегда.
U235> А потом удивляетесь, почему у них установки не работают
Вообще-то как раз научные работники утверждают, что работают.
А так по подобной логике не меньше 70% научных работников всего мира можно пересажать.
U235> Не говорит этот самый хирш ничего о реальной ценности ученого. И совершенно правильно поставлен вопрос что нельзя ставить во главу оценки учёного количество его публикаций. А то вот так и дают потом деньги проходимцам которые умеют пробивать публикации в журналах, но больше не умеют ничего. А потом удивляетесь, почему у них установки не работают
Х..ню ты несёшь.
Да, хирш не является исчерпывающим параметром.
Да, бывают крупные учёные с небольшим хиршем (тем более это от конкретной области работы зависит, цитируемости разные, и тот же FWCI даже наукометристы придумали - хоть что-то дошло).
Да, бывают и надутые (или хотя бы чуть поддутые).
Но набрать Хирша в 78 или даже 30, ничего из себя не представляя в науке - невозможно. Даже и 6-8- оччень нелегко (или дорого: обойдётся как бы не под сотню килобаксов и возню, если делать так, чтоб не сразу было палево с одного взгляда). Никакой проходимец, ни один Петрик и Лысенко не сумеют. Если такое вдруг кому-то удастся, то этот человек как минимум имеет организаторские способности на редкостно высоком уровне.
Так что кое-что Хирш говорит. Не всё, не всегда.
U235> А потом удивляетесь, почему у них установки не работают
Вообще-то как раз научные работники утверждают, что работают.
А так по подобной логике не меньше 70% научных работников всего мира можно пересажать.


U235> Не говорит этот самый хирш ничего о реальной ценности ученого. И совершенно правильно поставлен вопрос что нельзя ставить во главу оценки учёного количество его публикаций. А то вот так и дают потом деньги проходимцам которые умеют пробивать публикации в журналах, но больше не умеют ничего.
о реальной ценности Кабова как исследователя говорят его коллеги - физики с мировым именем, профессора и академики
как говорили о Маслове, Шиплюке и других
а вот с чего ты взял, что он проходимец, неясно
похоже, просто услышал что обвинения исходят от ФСБ - и сразу уверовал в их обоснованность, не вникая в суть дела
о реальной ценности Кабова как исследователя говорят его коллеги - физики с мировым именем, профессора и академики
как говорили о Маслове, Шиплюке и других
а вот с чего ты взял, что он проходимец, неясно
похоже, просто услышал что обвинения исходят от ФСБ - и сразу уверовал в их обоснованность, не вникая в суть дела


U235> ... А то вот так и дают потом деньги проходимцам которые умеют пробивать публикации в журналах, но больше не умеют ничего...
Судя по всему Вы не знаете как работает госзаказ
U235> ... А потом удивляетесь, почему у них установки не работают
Если у других эти установки работают, то Вы правы (верно и обратное)
В науке отрицательный результат это тоже результат
Судя по всему Вы не знаете как работает госзаказ
U235> ... А потом удивляетесь, почему у них установки не работают
Если у других эти установки работают, то Вы правы (верно и обратное)
В науке отрицательный результат это тоже результат


э.х.>> о реальной ценности Кабова как исследователя говорят его коллеги - физики с мировым именем, профессора и академики
pokos> Значит, просто НАДО посадить, и все дела.
адвокат в своём ТГ надеется, что обвинение развалится по причине зашкаливающей абсурдности
и срок будет условным
тем более что дело получило мировую огласку, и в защиту открыто выступило Американское физическое общество
но работать Кабову вряд ли дадут
что ж, пусть экспериментальные установки разрабатывает заместитель Пармона генерал-лейтенент ФСБ Старицын
14 уголовных дел только в СО РАН (с 2018 года)
pokos> Значит, просто НАДО посадить, и все дела.
адвокат в своём ТГ надеется, что обвинение развалится по причине зашкаливающей абсурдности
и срок будет условным
тем более что дело получило мировую огласку, и в защиту открыто выступило Американское физическое общество
но работать Кабову вряд ли дадут
что ж, пусть экспериментальные установки разрабатывает заместитель Пармона генерал-лейтенент ФСБ Старицын
14 уголовных дел только в СО РАН (с 2018 года)


э.х.> уже писал летом о деле Олега Кабова, новосибирского учёного
Немного из известного о сути обвинения.

Это вообще 3,14ц, если там действительно такие формулировки. Да так всю российскую науку пересажать можно (не российскую чуть сложнее, т.к. вне юрисдикции). Невиноватыми останутся только те, кто каждый отчёт высасывал из пальца, не повторяясь.
Такое возможно, схема известная. Даже одно время распространённая. Видел.
За такие схемы сидеть должны бы десятки и сотни людей, большинство за дело. Но не сидят и сидеть не будут. И, похоже, если сядут - то не те.
НО!!!
Именно ровно такая схема может быть как и преступной, так и для дела, где никакого злого умысла, никакого хищения!!! Хотя внешне - одно и то же!!!
Случай хищения: начислили доплату сотруднику 100 тыр., ему оставили 5 тыр., остальное забрали и использовали в личных целях. Надо сажать. Ох надо...! Но доказывать будет трудно и даже очень.
Случай обхода дурацких требований: начислили доплату сотруднику 100 тыр., ему оставили 5 тыр., остальное забрали и ОТДАЛИ ДРУГОМУ СОТРУДНИКУ - который собственно и работает. А первый сотрудник по данному проекту работы не выполнял, но зато соответствовал формальным требованиям проекта.
Часто бывает: должно участвовать столько-то студентов / аспирантов / сотрудников до 35 лет и т.п. Или наоборот - с большими степенями или там публикационными параметрами. Не соответствует состав команды таким формальным показателям - не получишь финансирования. Вот и набирают по знакомству. Из того, что я видел, такой "массовке" всегда предлагали и поучаствовать, за начисляемые деньги поработать. Обычно отказываются - или профиль не тот, долго вникать, или деньги всё равно небольшие, и т.п. А так помочь людям, получив несколько тыщ за беспокойство (ну и там пенсионные отчисления и т.п., о чём мало кто думает, но тем не менее) - почему же нет-то. Кто-то даже за беспокойство не берёт - просто отдаёт всё, полученное в кассе.
Формально, с внешней стороны, оба случая выглядят одинаково. И могут быть представлены в суде одинаково. Но смысл принципиально разный. И вот допустим получены свидетельские показания сотрудников, к-м начисляли деньги, к-е они потом передавали руководителю проекта (не очень представляю, как бы их получить, но предположим). КАК определить, что имело место? Доказать именно хищение трудно. Для доказательства использования на дело - нужны свидетельские показания работавших сотрудников, к-м потом деньги наличкой передавали на их з.п. И вот тут и начинается. Согласятся ли дать такие показания, доступны ли вообще сейчас эти люди (суд идёт по проекту 2014-2016 - с тех пор кто-то мог переехать, кого-то вообще в живых нет). Могут не помнить, т.к. на такое ж документов не сохраняется. Короче иди докажи что не верблюд!!!
Ну, само по себе ничего не доказывает, честно говоря. Изобретения зафиксировать - чисто вопрос умений и навыка, "платите - наделаем вам патентов". "Открытие" - даже несколько скользко по формулировкам. Ну для прессы сойдёт, надо разбираться.
Однако т.к. патенты являются одним из важных KPI (и в целевых программах, и вообще для учреждений) - то вообще-то деньги отработаны. (что такие KPI по обыкновению довольно глупы - ну, то отдельная история; однако они существуют, спущены сверху и даны нам в ощущениях; так что живём по принципу "что ты мне дал, то я и привязал" © х/ф "Особенности национальной рыбалки")
Понятное дело, что адвокат лицо заинтересованное, но звучит разумно и правдоподобно. "Экспертизы" бывают теми еще.
Немного из известного о сути обвинения.

Закон физика
Начался суд по делу завлабораторией Института теплофизики СО РАН Олега Кабова // www.kommersant.ru67-летний ученый-физик обвиняется в том, что якобы сфальсифицировал научные отчеты, включив в них ранее полученные результаты.
Это вообще 3,14ц, если там действительно такие формулировки. Да так всю российскую науку пересажать можно (не российскую чуть сложнее, т.к. вне юрисдикции). Невиноватыми останутся только те, кто каждый отчёт высасывал из пальца, не повторяясь.
При этом часть выделенных на проведение работ средств подсудимый похитил, считают правоохранители. Возможный ущерб оценивается в 7,2 млн руб.
Согласно данным правоохранительных органов, с августа 2014 года по ноябрь 2017 года ученый подделывал отчеты о проведении научных исследований, включая в них результаты, полученные ранее. Эти документы были представлены на подпись директору НИИ, который был введен в заблуждение относительно фактически выполненных исследований. В результате на основании поддельных документов из федерального бюджета институту было перечислено более 26 млн руб.
По данным следствия, более 7,2 млн руб. были похищены Олегом Кабовым. Ученый якобы начислял подчиненным доплаты к их заработной плате за участие в научных проектах, а затем требовал возврата средств.
Такое возможно, схема известная. Даже одно время распространённая. Видел.
За такие схемы сидеть должны бы десятки и сотни людей, большинство за дело. Но не сидят и сидеть не будут. И, похоже, если сядут - то не те.
НО!!!
Именно ровно такая схема может быть как и преступной, так и для дела, где никакого злого умысла, никакого хищения!!! Хотя внешне - одно и то же!!!
Случай хищения: начислили доплату сотруднику 100 тыр., ему оставили 5 тыр., остальное забрали и использовали в личных целях. Надо сажать. Ох надо...! Но доказывать будет трудно и даже очень.
Случай обхода дурацких требований: начислили доплату сотруднику 100 тыр., ему оставили 5 тыр., остальное забрали и ОТДАЛИ ДРУГОМУ СОТРУДНИКУ - который собственно и работает. А первый сотрудник по данному проекту работы не выполнял, но зато соответствовал формальным требованиям проекта.
Часто бывает: должно участвовать столько-то студентов / аспирантов / сотрудников до 35 лет и т.п. Или наоборот - с большими степенями или там публикационными параметрами. Не соответствует состав команды таким формальным показателям - не получишь финансирования. Вот и набирают по знакомству. Из того, что я видел, такой "массовке" всегда предлагали и поучаствовать, за начисляемые деньги поработать. Обычно отказываются - или профиль не тот, долго вникать, или деньги всё равно небольшие, и т.п. А так помочь людям, получив несколько тыщ за беспокойство (ну и там пенсионные отчисления и т.п., о чём мало кто думает, но тем не менее) - почему же нет-то. Кто-то даже за беспокойство не берёт - просто отдаёт всё, полученное в кассе.
Формально, с внешней стороны, оба случая выглядят одинаково. И могут быть представлены в суде одинаково. Но смысл принципиально разный. И вот допустим получены свидетельские показания сотрудников, к-м начисляли деньги, к-е они потом передавали руководителю проекта (не очень представляю, как бы их получить, но предположим). КАК определить, что имело место? Доказать именно хищение трудно. Для доказательства использования на дело - нужны свидетельские показания работавших сотрудников, к-м потом деньги наличкой передавали на их з.п. И вот тут и начинается. Согласятся ли дать такие показания, доступны ли вообще сейчас эти люди (суд идёт по проекту 2014-2016 - с тех пор кто-то мог переехать, кого-то вообще в живых нет). Могут не помнить, т.к. на такое ж документов не сохраняется. Короче иди докажи что не верблюд!!!
«Я надеялся, что следствие, ошибочно возбудив дело и заключив меня под стражу (в последующем ученого отпустили из СИЗО.— “Ъ”), разберется, признает свою неправоту и принесет мне извинения. Увы, этого не произошло. Я понимаю почему. Те, кто возбудил дело, оперативно отрапортовав на всех уровнях о выявлении “ученого-расхитителя” и широко оповестив об этом общественность через СМИ, не могут признать ошибку. Признав ее, эти люди должны понести наказание за незаконное привлечение меня к уголовной ответственности»,— сказал физик. По его словам, следователи не стали приобщать к делу доказательства в пользу ученого.
Ученый обратил внимание на то, что в ходе выполнения работ по проекту были зафиксированы пять изобретений, зарегистрированы два открытия на основе проведенных прикладных научных исследований. Олег Кабов считает, что научно-техническая экспертиза, которая стала основой для обвинения, фактически сводилась к выявлению несоответствия требованиям ГОСТов при оформлении отчетности.
Ну, само по себе ничего не доказывает, честно говоря. Изобретения зафиксировать - чисто вопрос умений и навыка, "платите - наделаем вам патентов". "Открытие" - даже несколько скользко по формулировкам. Ну для прессы сойдёт, надо разбираться.
Однако т.к. патенты являются одним из важных KPI (и в целевых программах, и вообще для учреждений) - то вообще-то деньги отработаны. (что такие KPI по обыкновению довольно глупы - ну, то отдельная история; однако они существуют, спущены сверху и даны нам в ощущениях; так что живём по принципу "что ты мне дал, то я и привязал" © х/ф "Особенности национальной рыбалки")
Адвокат Геннадий Шишебаров выразил сомнения в компетентности эксперта. Он заявил, что объектом научно-технической экспертизы является научный результат, но специалист, проводивший экспертизу, не имел достаточных знаний в области теплофизики и не проводил соответствующих исследований. «По сути, выполненная им экспертиза, является управленческой экспертизой. Потому что ГОСТ — это не наука. ГОСТ — это управление наукой, это форма контроля чиновников за наукой»,— сказал адвокат.
Понятное дело, что адвокат лицо заинтересованное, но звучит разумно и правдоподобно. "Экспертизы" бывают теми еще.


Это сообщение редактировалось 28.01.2025 в 02:05
Fakir> Это вообще 3,14ц, если там действительно такие формулировки.
Развал ЭРЭФии никто не отменял.
Он только отложен.
Развал ЭРЭФии никто не отменял.
Он только отложен.


э.х.>> уже писал летом о деле Олега Кабова, новосибирского учёного
Fakir> Немного из известного о сути обвинения.
Fakir> "По данным следствия, более 7,2 млн руб. были похищены Олегом Кабовым. Ученый якобы начислял подчиненным доплаты к их заработной плате за участие в научных проектах, а затем требовал возврата средств."
в тех источниках, по которым я слежу за этим делом, ситуация с 7 млн представлена иначе, если не сказать противоположно.
я читаю сайт ОНР, ветку которая активно велась летом учёными
там внутри ссылки на другие сайты, материалы дела, статьи Кабова, экспертизу и т.д.
по этим материалам и свидетельствам у меня такая хроника событий сложилась в голове:
лаборатории Кабова дали 26 млн на три года под создание экспериментального образца испарительной системы охлаждения теплонапряжённых элементов.
образец был создан и принят комиссией, написаны статьи, материалы проекта изданы отдельным релизом.
неизрасходованные деньги (7 млн) Кабов положил в фонд лаборатории
то есть НЕ выплатил их, как делал прежде, как премию сотрудникам, а положил в общий фонд, что является обычной практикой
ни у кого из сотрудников лабы это не вызвало возражений, кроме одного, который хотел чтобы деньги были поделены между всеми как премии
на этой денежной почве у этого сотрудника с Кабовым случился конфликт.
позже этот молодой сотрудник лабы перешёл работать в...ФСБ (да, бывает и так)
и написал, как считают коллеги Кабова, донос - что работа была не сделана, а 7 млн Кабов присвоил.
этим и объясняется странность - когда "ни с того ни с сего" ФСБ начала проверку давно принятого проекта
по поводу фонда лаборатории, куда Кабов положил 7 млн
этому есть свидетельства в деле - деньги не были присвоены и расходовались открыто на нужды лабы.
вот слова одного и сотрудников про этот фонд:
поэтому овбинение строится на некачественности созданного образца - якобы создал непойми что, а 26 млн освоил
вот это и бесит всех принимающих участие в обсуждении учёных: претензия за некачественный научный результат, исходящая не от учёных, а от ФСБ на основании экспертизы Чернова и Березиной (предлагаю запомнить эти фамилии), не являющихся профильными специалистами.
учёные провели две независимых профильных экспертизы и сошлись во мнении, что оценка Чернова и Березиной неадекватна.
далее выяснилась интересная деталь, цитирую по сайту ОНР и внутри ссылка на Коммерсант:
те же самые Чернов и Березина участвовали в похожей экспертизе по похожему делу о мошенническом присвоении денег одним из ведущих российских учёных.
всё это, кмк, может быть похоже на сведение счётов, пользуясь личными связями в правоохранительных органах
то есть натравили, проще говоря
политической подоплёки в этих делах нет
хотя в обоих случаях фигурирует срыв плана из-за непоставки нужных деталей:
в случае Кабова японцы из-за санкций не смогли передать вовремя нагревательный элемент
а в деле Кайбышева партнёр по проекту не выполнил работу из-за отсутствия нужного оборудования.
то есть им ещё и обстоятельства мешали
несмотря на это оба учёных выполнили работу, эту работу приняло министерство, а спустя время к ним пришли СКР и ФСБ с проверкой и обвинением в подлогах
Fakir> Немного из известного о сути обвинения.
Fakir> "По данным следствия, более 7,2 млн руб. были похищены Олегом Кабовым. Ученый якобы начислял подчиненным доплаты к их заработной плате за участие в научных проектах, а затем требовал возврата средств."
в тех источниках, по которым я слежу за этим делом, ситуация с 7 млн представлена иначе, если не сказать противоположно.
я читаю сайт ОНР, ветку которая активно велась летом учёными
там внутри ссылки на другие сайты, материалы дела, статьи Кабова, экспертизу и т.д.
по этим материалам и свидетельствам у меня такая хроника событий сложилась в голове:
лаборатории Кабова дали 26 млн на три года под создание экспериментального образца испарительной системы охлаждения теплонапряжённых элементов.
образец был создан и принят комиссией, написаны статьи, материалы проекта изданы отдельным релизом.
неизрасходованные деньги (7 млн) Кабов положил в фонд лаборатории
то есть НЕ выплатил их, как делал прежде, как премию сотрудникам, а положил в общий фонд, что является обычной практикой
ни у кого из сотрудников лабы это не вызвало возражений, кроме одного, который хотел чтобы деньги были поделены между всеми как премии
на этой денежной почве у этого сотрудника с Кабовым случился конфликт.
позже этот молодой сотрудник лабы перешёл работать в...ФСБ (да, бывает и так)
и написал, как считают коллеги Кабова, донос - что работа была не сделана, а 7 млн Кабов присвоил.
этим и объясняется странность - когда "ни с того ни с сего" ФСБ начала проверку давно принятого проекта
по поводу фонда лаборатории, куда Кабов положил 7 млн
этому есть свидетельства в деле - деньги не были присвоены и расходовались открыто на нужды лабы.
вот слова одного и сотрудников про этот фонд:
Допустим, мы занимаемся экспериментом и нам надо быстро изготовить какую-то деталь. Пишешь заявку, оплачиваешь из фонда, и у тебя голова не болит. Или надо что-то отремонтировать. У института денег нет или их очень сложно получить, а тут мы сами за счёт фонда быстро проводим ремонт, всё чиним. Благодаря этому фонду у нас были хорошие условия работы. Однажды мне надо было оперативно поехать на конференцию в Томск, но в бюджете института на это денег не было. Я потратил свои деньги, но потом из нашего фонда мне возместили затраты. Фонд был очень удобным инструментом в условиях сложной государственной бюрократии.
поэтому овбинение строится на некачественности созданного образца - якобы создал непойми что, а 26 млн освоил
вот это и бесит всех принимающих участие в обсуждении учёных: претензия за некачественный научный результат, исходящая не от учёных, а от ФСБ на основании экспертизы Чернова и Березиной (предлагаю запомнить эти фамилии), не являющихся профильными специалистами.
учёные провели две независимых профильных экспертизы и сошлись во мнении, что оценка Чернова и Березиной неадекватна.
далее выяснилась интересная деталь, цитирую по сайту ОНР и внутри ссылка на Коммерсант:
Коллеги обратили внимание на то, что дело против члена-корреспондента РАН О.А.Кабова, о котором я здесь много писал (последний пост на эту тему был 7 августа), не является единственным примером обвинения ведущего ученого в мошенничестве при выполнении научного проекта.
Оказывается, аналогичная история разворачивается вокруг проекта в рамках ФЦП «Исследования и разработки», который выполнялся в Белгородском национальном исследовательском университете под руководством профессора Р.О.Кайбышева в 2017-2019 годах. Об этом деле еще в январе вышла заметка в «Коммерсанте»:
Ученые не вписались в преступную группу
В Белгороде заново начинают рассматривать дело о хищениях в НИИ // www.kommersant.ru
То есть опять тот же мотив: ученый выполнил проект, все отчеты приняты министерством, а потом его обвиняют в том, что отчет содержит «заведомо ложные сведения».
Причем, так же, как и в случае с О.А.Кабовым, обвинение формулируется против одного из ведущих российских ученых. Например, согласно сайту research.com Рустам Оскарович занимает восьмое место в рейтинге ученых России в области наук о материалах:
Его показатели по ядру РИНЦ: 647 публикаций, почти 13 тысяч цитирований, Хирш-фактор 55. Хотя я и не специалист в области структуры и свойств металлов и сплавов, я много слышал об активной молодой лаборатории, которую Р.О.Кайбышев смог создать в Белгородском университете.
Что-то мне не верится, что ученый такого уровня мог представить настолько слабый научный отчет, что его можно квалифицировать как «мошенничество» и возбудить на этой основе уголовное дело. Материалы дела открыты (они уже были оглашены в первом суде), поэтому я поинтересовался, кто же составлял экспертное заключение, лежащее в основе обвинения?
Оказалось, что это все те же профессор МИФИ И.И.Чернов и канд.экон.наук Е.В.Березина, что и в деле О.А.Кабова! (Правда в данном случае есть еще два автора: д.т.н., доцент СТАНКИНа С.В.Лукина и докт.экон.наук В.Д.Клюев из РИНКЦЭ). И что ими была использована та же совершенно несостоятельная методика оценки степени выполнения проекта (см., например, пост от 17 мая)! Излишне говорить, что уровень научной компетенции этих экспертов области материаловедения не идет ни в какое сравнение с уровнем Р.О.Кайбышева. Хотя конечно в их аргументах надо подробно разбираться, покажу заключение специалистам.
Хотел бы закончить этот пост, еще раз подчеркнув, казалось бы, очевидную вещь. Р.О.Кайбышеву удалось создать работоспособный коллектив в университете вдали от научных столиц, который стал проводить исследования на мировом уровне. Таких примеров, на самом деле, не так много. Кому понадобилось «подрезать крылья» лаборатории, инициировав нервотрепку с этим обвинением? Вопрос открытый, и ответа на него я не нахожу.
те же самые Чернов и Березина участвовали в похожей экспертизе по похожему делу о мошенническом присвоении денег одним из ведущих российских учёных.
всё это, кмк, может быть похоже на сведение счётов, пользуясь личными связями в правоохранительных органах
то есть натравили, проще говоря
политической подоплёки в этих делах нет
хотя в обоих случаях фигурирует срыв плана из-за непоставки нужных деталей:
в случае Кабова японцы из-за санкций не смогли передать вовремя нагревательный элемент
а в деле Кайбышева партнёр по проекту не выполнил работу из-за отсутствия нужного оборудования.
то есть им ещё и обстоятельства мешали
несмотря на это оба учёных выполнили работу, эту работу приняло министерство, а спустя время к ним пришли СКР и ФСБ с проверкой и обвинением в подлогах


э.х.>> политической подоплёки в этих делах нет
pokos> Откуда такая уверенность?
да нет конечно такой уверенности, это я так сказал, себя успокоить.
особенно когда читаю что пишут коллеги Кабова и вообще учёные по поводу этого и других дел
"парализовали науку" - самое мягкое что там звучит
видимо, хотят поставить все исследования на контроль таким образом
чтобы муха не пролетела без ведома кого надо
pokos> Откуда такая уверенность?
да нет конечно такой уверенности, это я так сказал, себя успокоить.
особенно когда читаю что пишут коллеги Кабова и вообще учёные по поводу этого и других дел
"парализовали науку" - самое мягкое что там звучит
видимо, хотят поставить все исследования на контроль таким образом
чтобы муха не пролетела без ведома кого надо


э.х.> то есть НЕ выплатил их, как делал прежде, как премию сотрудникам, а положил в общий фонд, что является обычной практикой
э.х.> ни у кого из сотрудников лабы это не вызвало возражений, кроме одного, который хотел чтобы деньги были поделены между всеми как премии
э.х.> на этой денежной почве у этого сотрудника с Кабовым случился конфликт.
э.х.> позже этот молодой сотрудник лабы перешёл работать в...ФСБ
Вспоминается анекдот про джентельмена, которому карта пошла когда он узнал что джентельменам верят на слово. Это всё бездоказательный треп в исполнении спасающего себя от суда коррупционера под следствием. С такой же степенью уверенности можно утверждать что было ровно наоборот: Кабов хотел распилить деньги, а один принципиальный сотрудник возражал, вследствие чего его из лаборатории и выжили. Вот только не учли, что он потом на работу в ФСБ пойдет.
э.х.> этому есть свидетельства в деле - деньги не были присвоены и расходовались открыто на нужды лабы.
Какие? Честное джентельменское слово?
э.х.> Фонд был очень удобным инструментом в условиях сложной государственной бюрократии
Вот только сложность бюрократии вызвана главным образом требованиями строго учета и отчетности, на что пошли деньги. А если ученые выданные им государством деньги положили в ящик стола в лаборатории и брали на те нужды, что считали нужными, не озабочиваясь обоснованием и отчетами трат, то кто им теперь злобный буратино кроме них самих, когда с них спросили за нецелевое использование этих средств?
э.х.> те же самые Чернов и Березина участвовали в похожей экспертизе по похожему делу о мошенническом присвоении денег одним из ведущих российских учёных.
И что? Заслуживающие доверия эксперты естественно привлекаются к аналогичным уголовным делам.
э.х.> Что-то мне не верится, что ученый такого уровня мог представить настолько слабый научный отчет, что его можно квалифицировать как «мошенничество»
"Что-то мне не верится" - не аргумент в уголовном деле, и тем более - не аргумент в суде. В то, что очистительные сооружения на Волге крупные федеральные компании и администрации субъектов федерации могли просто не построить и разворовать выделенные на это деньги, тебе тоже не верится? А ученые чем лучше то? Они в какой-то другой стране родились и из какого-то другого теста сделаны, нежели те чиновники? Да ровно так же могут не устоять от искушения попилить госзаказ.
э.х.> Излишне говорить, что уровень научной компетенции этих экспертов области материаловедения не идет ни в какое сравнение с уровнем Р.О.Кайбышева
А экспертам не нужно быть экспертами в материаловедении. Им нужно быть экспертами в финансах. Чтоб оценить сколько этот ученый потратил по своим отчетам, и сколько данная работа действительно стоит. "Строителей" очистных сооружений тоже проверяли не суперэксперты по строительству, а депутаты с командой грамотных бухгалтеров.
э.х.> несмотря на это оба учёных выполнили работу, эту работу приняло министерство,
Ну так те очистные тоже кто-то принял, пока не приехала комиссия и не выяснила, что там на самом деле конь не валялся. Коррупция, как она есть. Принимающим откатили - они и приняли.
э.х.> политической подоплёки в этих делах нет
Конечно нет. Обычная коррупция и распилы в недрах научных институтов. С чего вы взяли, что ученые честнее остальных?
э.х.> ни у кого из сотрудников лабы это не вызвало возражений, кроме одного, который хотел чтобы деньги были поделены между всеми как премии
э.х.> на этой денежной почве у этого сотрудника с Кабовым случился конфликт.
э.х.> позже этот молодой сотрудник лабы перешёл работать в...ФСБ
Вспоминается анекдот про джентельмена, которому карта пошла когда он узнал что джентельменам верят на слово. Это всё бездоказательный треп в исполнении спасающего себя от суда коррупционера под следствием. С такой же степенью уверенности можно утверждать что было ровно наоборот: Кабов хотел распилить деньги, а один принципиальный сотрудник возражал, вследствие чего его из лаборатории и выжили. Вот только не учли, что он потом на работу в ФСБ пойдет.
э.х.> этому есть свидетельства в деле - деньги не были присвоены и расходовались открыто на нужды лабы.
Какие? Честное джентельменское слово?

э.х.> Фонд был очень удобным инструментом в условиях сложной государственной бюрократии
Вот только сложность бюрократии вызвана главным образом требованиями строго учета и отчетности, на что пошли деньги. А если ученые выданные им государством деньги положили в ящик стола в лаборатории и брали на те нужды, что считали нужными, не озабочиваясь обоснованием и отчетами трат, то кто им теперь злобный буратино кроме них самих, когда с них спросили за нецелевое использование этих средств?
э.х.> те же самые Чернов и Березина участвовали в похожей экспертизе по похожему делу о мошенническом присвоении денег одним из ведущих российских учёных.
И что? Заслуживающие доверия эксперты естественно привлекаются к аналогичным уголовным делам.
э.х.> Что-то мне не верится, что ученый такого уровня мог представить настолько слабый научный отчет, что его можно квалифицировать как «мошенничество»
"Что-то мне не верится" - не аргумент в уголовном деле, и тем более - не аргумент в суде. В то, что очистительные сооружения на Волге крупные федеральные компании и администрации субъектов федерации могли просто не построить и разворовать выделенные на это деньги, тебе тоже не верится? А ученые чем лучше то? Они в какой-то другой стране родились и из какого-то другого теста сделаны, нежели те чиновники? Да ровно так же могут не устоять от искушения попилить госзаказ.
э.х.> Излишне говорить, что уровень научной компетенции этих экспертов области материаловедения не идет ни в какое сравнение с уровнем Р.О.Кайбышева
А экспертам не нужно быть экспертами в материаловедении. Им нужно быть экспертами в финансах. Чтоб оценить сколько этот ученый потратил по своим отчетам, и сколько данная работа действительно стоит. "Строителей" очистных сооружений тоже проверяли не суперэксперты по строительству, а депутаты с командой грамотных бухгалтеров.
э.х.> несмотря на это оба учёных выполнили работу, эту работу приняло министерство,
Ну так те очистные тоже кто-то принял, пока не приехала комиссия и не выяснила, что там на самом деле конь не валялся. Коррупция, как она есть. Принимающим откатили - они и приняли.
э.х.> политической подоплёки в этих делах нет
Конечно нет. Обычная коррупция и распилы в недрах научных институтов. С чего вы взяли, что ученые честнее остальных?


Copyright © Balancer 1997..2025
Создано 02.04.2021
Связь с владельцами и администрацией сайта: anonisimov@gmail.com, rwasp1957@yandex.ru и admin@balancer.ru.
Создано 02.04.2021
Связь с владельцами и администрацией сайта: anonisimov@gmail.com, rwasp1957@yandex.ru и admin@balancer.ru.
 экий хомо
экий хомо

 инфо
инфо инструменты
инструменты Fakir
Fakir

 Просто Зомби
Просто Зомби

 экий хомо
экий хомо
 экий хомо
экий хомо



 экий хомо
экий хомо
 ivanko2
ivanko2
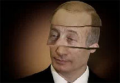

 экий хомо
экий хомо


 экий хомо
экий хомо
